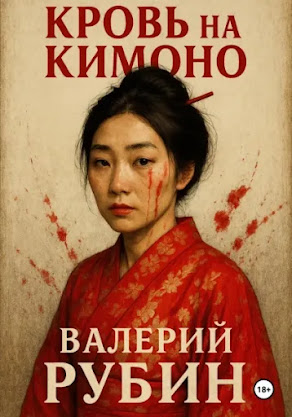Связь музыки и литературы глубока. Оперы часто адаптировались на основе художественных произведений, особенно драм и эпических поэм. Литература также часто черпала вдохновение в музыке во всех аспектах, от темы до структуры. (The Epoch Times)
Среди композиторов Бетховен, вероятно, занимает первое место за то, что на него чаще всего ссылаются великие авторы. Преодолевая свою глухоту и стремясь выйти за пределы материального мира с помощью звука, он является символом трансцендентности. Ниже приведены некоторые из способов, с помощью которых писатели вовлекли композитора в свои рассказы (и один из способов, которым композитор сам был вдохновлен в свою очередь).
«Ода к радости»
Прежде чем перейти к тому, как Бетховен влиял на писателей, следует упомянуть самый известный пример писателя, повлиявшего на Бетховена.
Фридрих Шиллер – один из величайших поэтов Германии. В англоязычном мире он, вероятно, наиболее известен своим стихотворением «Ода к радости», которое Бетховен включил в кульминацию своей Девятой симфонии. В классическом переводе Уильяма Ф. Вертца первая строфа гласит:
Радость, прекрасная божественная молния, Дочь Элизиума, Опьяненная огнем мы окружаем Небеса, твой святой дом! Твои чары связывают воедино, Что обычай сурово разделил, Каждый становится братом, Где пребывают твои нежные крылья.
Стихотворение Шиллера довольно длинное, и Бетховен включил в него только около половины. Он вырезал некоторые гедонистические части, которые отсылают к поцелуям и вину. Он также перестроил его так, чтобы он плавно переходил от земной сферы к небесной, закончив описанием Творца за пределами звезд.
Из-за этих изменений некоторые считают, что адаптация Бетховена лучше, чем оригинальное стихотворение Шиллера. Современный поэт Брайан Япко в своем собственном драматическом монологе в стихах под названием «Ода к радости» даже приписывает эту точку зрения самому Бетховену, который размышляет о первом исполнении своего произведения:
Вот это я и понимаю. Музыка, которую я сочинял, оставила слова Шиллера намного лучше. В мелодии и гармонии я уловил Истинное братство и Бога, и все, что я любил. Я не могла смотреть на публику от страха! Но когда я обернулся, то увидел ликование в Вене!
«Крейцерова соната»
Повесть Льва Толстого «Крейцерова соната», возможно, является самым известным примером литературного произведения, вдохновленного музыкальным произведением. Название взято из Скрипичной сонаты No 9 Бетховена, которую он посвятил известному французскому скрипачу Родольфу Крейцеру. В рассказе Толстого соната становится выражением ревности главного героя к своей чувственной жене. В центральной сцене этот мужчина, Позднышев, описывает, как она аккомпанировала скрипачу на фортепиано:
«Они играли «Крейцерову сонату» Бетховена. Страшная вещь в том, что соната, особенно престо! И страшная вещь – это музыка вообще. … Говорят, что музыка волнует душу. Глупость! Ложь! Позднышев утверждает, что музыка «заставляет меня забыть о моем реальном положении. Она переносит меня в состояние, которое не является моим собственным. … Мне действительно кажется, что я чувствую то, чего не чувствую, понимаю то, чего не понимаю, обладаю силами, которых у меня не может быть». Он заключает: «В Китае музыка находится под контролем государства, и так и должно быть».
Что-то происходит с Позднышевым, когда он слышит, как его жена играет Бетховена, однако, несмотря на его радикальные взгляды. Когда он слушал, «сознание этого неопределенного состояния наполняло меня радостью», а музыка «переносила меня в неизведанный мир». Несмотря на то, что история имеет трагический финал, в сердце Позднышева временно «не было места ревности».
Несколько раз в рассказе Позднышев обращается к начальной части сонаты Бетховена «presto». Эта инновационная секция начинается с нескольких нот в мажорной тональности, прежде чем перейти к минору, что является обратной стороной обычной гармонической прогрессии, когда произведение начинается в миноре и переходит в мажор. Он был описан как «яростный» и полный страстной интенсивности, как и сам Позднышев.
«Доктор Фаустус»
Лауреат Нобелевской премии писатель Томас Манн по-новому взглянул на сказку о Фаусте, вековую историю о том, как ученый продает свою душу дьяволу. В его романе «Доктор Фаустус» главный герой, Адриан Леверкюн, является композитором, который заключает дьявольский договор о погоне за новшествами в музыкальном стиле.
Бетховен занимает видное место в этой книге, полной музыкальных идей и отсылок. Его Девятая симфония даже сыграла решающую символическую роль в умственном и моральном падении Леверкюна.
В «Фаусте» Иоганна Вольфганга фон Гёте главный герой находит искупление. Его душа в конце спасается, и он возносится на небеса по Божьему милосердию. В версии Манна, наоборот, договор Леверкюна с дьяволом приводит к безумию и смерти. Главным катализатором этого является его последнее сочинение, хоровое произведение под названием «Плач доктора Фауста», задуманное как печальное отрицание «Оды к радости» Бетховена.
При написании своего романа Манн находился под сильным влиянием модернистской музыки. Таким образом, книгу можно читать как поучительную историю об отчаянии, которое современное искусство часто вызывает своей чрезмерной преданностью новизне.
«Четыре квартета»
В то время как Т.С. Элиот наиболее известен своей пессимистичной ранней работой «Бесплодная земля», его более поздняя поэма «Четыре квартета», возможно, является его настоящим шедевром. При написании этой работы Элиот находился под сильным влиянием своего обращения к христианству. Он также обратился к Бетховену, сказав о композиторе: «В некоторых его поздних вещах есть что-то небесное или, по крайней мере, более чем человеческое. ... Я хотел бы хотя бы раз облечь это в стихи, прежде чем умру.
Результатом стали «Четыре квартета», длинная поэма с музыкальной структурой из пяти частей, которая отражает пять частей Струнного квартета No 15 ля минор Бетховена, соч. 132.
Первая часть, «Burnt Norton», начинается как часть аллегро, с короткими, в основном без знаков препинания, которые быстро движутся. Затем куплет переходит к более длинным, рефлексивным строкам, соответствующим темпу адажио:
В неподвижной точке вращающегося мира. Ни плоть, ни бесплотная;
Ни оттуда, ни навстречу; В неподвижной точке есть танец,
Но ни ареста, ни движения. И не надо называть это неподвижностью,
Где собраны прошлое и будущее. Ни движения ни от, ни ввысь, ни падения. За исключением точки, неподвижной точки, не было бы танца, и есть только танец.
Я могу только сказать, что мы были, но я не могу сказать, где. И я не могу сказать, сколько времени, чтобы поместить его во времени.
Эта замечательная строка, «неподвижная точка вращающегося мира», обычно интерпретируется как символ вечного присутствия Бога. Несмотря на то, что Он неизменен и существует вне времени, Он поддерживает всякое движение.
В заключение скажу немногим лучше, чем процитировать роман Э. М. Форстера «Конец Говарда». В знаменитом разделе он описывает Пятую симфонию Бетховена как «самый возвышенный шум, который когда-либо проникал в ухо человека», и что он «вернул порывы великолепия, героизм, молодость, великолепие жизни и смерти». С таким же успехом этот отрывок можно было бы применить ко всем произведениям композитора.
Эндрю Бенсон Браун
(в пересказе)
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. "Canadian News Service" CNS. Non-Profit site.
Сообщество журналистов. © Валерий РУБИН